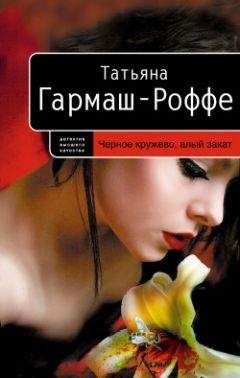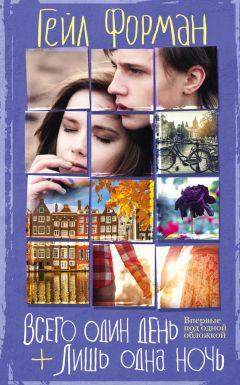Станислав Лем - Насморк [= Аллергия] [Katar]
Ближайший лайнер «Британских европейских авиалинии», на котором я мог улететь, отправлялся только завтра в ужасную рань — в пять часов сорок минут. Что поделаешь. Я перерегистрировал билет на этот рейс, уложил вещи на тележку и покатил ее в гостиницу «Эр Франс», где ночевал по прибытии из Рима. Там меня ждал новый сюрприз. Гостиницу до отказа забили пассажиры, которые, подобно мне, остались на бобах. Возникла перспектива ночевки в Париже, при этом, чтобы поспеть на самолет, следовало в четыре утра сорваться с постели. Возвращение в Гарж не решало проблемы: Гарж к югу от Парижа. Через толпу обманутых я протолкался к выходу; предстояло решить, что делать дальше. В конце концов можно на день отложить отъезд, но уж очень не хотелось. Нет ничего хуже таких проволочек.
Я все еще колебался, когда появился киоскер с пачкой журналов и начал расставлять их на стенде у киоска. Мне бросился в глаза свежий номер «Пари-матч». С черной обложки смотрел на меня мужчина, повисший в воздухе, как гимнаст, перемахивающий через планку. Брюки у него были на подтяжках, а перед грудью была девочка с волосами, размазанными воздушной волной, летящая головой вниз, словно они вдвоем исполняли цирковой номер. Не веря собственным глазам, я подошел к киоску. Это оказался я с Аннабель. Я, конечно, купил «Пари-матч» и обнаружил там репортаж из Рима. Над фотографией развороченного эскалатора, заваленного людскими телами, через всю страницу шел громадный заголовок: «Мы предпочитаем смотреть смерти в лицо». Я пробежал текст. Они разыскали Аннабель. Ее фотография вместе с родителями была помещена на следующей странице. Моя фамилия не упоминалась. На обложке был кадр видеомагнитофона, регистрирующего продвижение пассажиров по Лабиринту. Эту деталь я не учел, впрочем, мне ведь гарантировали сохранение тайны. Я еще раз перечитал репортаж. Был там рисунок, изображавший эскалатор, место взрыва, противовзрывной бассейн, стрелки указывали, откуда и куда я прыгнул, воспроизводился и увеличенный фрагмент снимка с обложки, между моими брючинами и барьером виднелся клетчатый рукав. Подпись гласила, что это «оторванная рука террориста». Я охотно побеседовал бы с журналистом, написавшим это. Что удержало его от упоминания моей фамилии? Они явно установили, кто я такой, раз уж в репортаже фигурировал некий астронавт и была названа фамилия Аннабель, «очаровательной девочки», которая ждет письма от своего спасителя. Между строк можно было вычитать намек на романтические чувства, порожденные этой трагедией.
Меня охватила холодная ярость, я резко повернулся, грубо пробился через толпу в вестибюле, ворвался в помещение дирекции и там, в кабинете, заполненном галдящими людьми, перекричал всех. Решив извлечь выгоду из своего геройства, я швырнул директору на стол «Пари-матч». И сейчас краснею от стыда, вспоминая ту сцену. Я добился-таки своего. Директор, не привыкший иметь дело с астронавтами, да еще такими героями, капитулировал и отдал мне единственный номер, каким еще располагал, — он клялся, что это действительно последний, потому что присутствующие накинулись на него, как свора, спущенная с цепи.
Я хотел идти за чемоданами, но мне сказали, что номер освободится после одиннадцати, а было только восемь. Багаж я оставил в администрации, и мне предстояло убить три часа в Орли. Я уже жалел о своем поступке — могли быть неприятные последствия, если среди пассажиров есть репортеры, — и решил до одиннадцати держаться подальше от гостиницы. В кино идти не хотелось, ужинать тоже, поэтому я совершил глупость, которую чуть было не сделал однажды в Квебеке, когда из-за внезапной бури отложили вылет. Направился в другой конец аэровокзала, к парикмахеру, чтобы потребовать от него всего, на что он способен. Парикмахер оказался гасконцем, я мало понимал из того, что он мне говорил, но согласно принятому решению отвечал «да» на каждое очередное предложение, — иначе меня выдворили бы из кресла. Стрижка и мытье головы прошли нормально, но после этого он взял разгон. Поймал по транзистору, стоявшему между зеркалами, мелодию рок-н-ролла, увеличил громкость, закатал рукава и, притоптывая в такт, как бы отплясывая чечетку, принялся за меня по-настоящему. Лупил по лицу, оттягивал щеки, щипал подбородок, хлестал по глазам мокрыми обжигающими салфетками, время от времени приоткрывая в этих дьявольски горячих тряпках крохотную брешь, чтоб я преждевременно не задохнулся, о чем-то спрашивал, чего я не мог услышать, так как перед стрижкой он заткнул мне уши ватой. Я отвечал «ca va bien»[25], и тогда он кидался к шкафчикам за новыми флаконами и кремами.
Я проторчал у него битый час. В заключение он расчесал мне брови, подровнял их, нахмурившись, отступил на шаг, пригляделся к делу рук своих, сменил халат, из отдельного шкафчика извлек золотой флакон, продемонстрировал мне, словно флягу благородного вина, плеснул на пальцы зеленое желе и принялся втирать мне в голову. При этом говорил без умолку, поразительно быстро, уверяя, что теперь я могу быть спокоен: облысение мне не грозит. Энергичными ударами щетки взбил мне волосы, смахнул все полотенца, компрессы, извлек вату из ушей, дунул в каждое деликатно и вместе с тем интимно, припорошил лицо пудрой, стрельнул перед самым носом салфеткой и с достоинством поклонился. Он был горд собой. Кожа у меня на голове стянулась, щеки пылали, я поднялся одурманенный, дал ему десять франков на чай и ушел.
До того как освободится номер, оставалось часа полтора. Я решил сходить на террасу для провожающих и поглядеть на летное поле, но заблудился. В аэровокзале велись ремонтные работы, часть эскалаторов была перекрыта, там возились электрики, я попал в толпу — спешащие на посадку военные в экзотических мундирах, монахини в накрахмаленных чепцах, голенастые негры — вероятно, из баскетбольной команды. Замыкая процессию, стюардесса катила инвалидную коляску со стариком в темных очках, державшим пушистый сверток, который, соскользнув внезапно с колен, покатился ко мне. Обезьянка в куцей зеленой курточке и в ермолке. Она глядела на меня снизу живыми черными глазами, я — на нее, пока наконец, подпрыгивая, она не бросилась вдогонку за отдалявшейся коляской.
Мелодия рок-н-ролла из парикмахерской так настырно привязалась ко мне, что я слышал ее в шуме шагов и гомоне голосов. У стены, в сиянии неоновых огней, стоял электронный игральный автомат, я бросил монету и несколько секунд следил за световым пятном, скачущим по экрану, как мячик, но оно резало глаза, и я отошел, не завершив партии. Снова двигались пассажиры на посадку, в их гуще я заметил павлина, который невозмутимо стоял, опустив хвост, а когда его задевали, наклонял голову, как бы прикидывая, кого долбануть в ногу. Сначала обезьянка, теперь павлин. Кто-нибудь его потерял? Я не смог пробиться через толпу и пошел кругом, но павлин куда-то исчез.